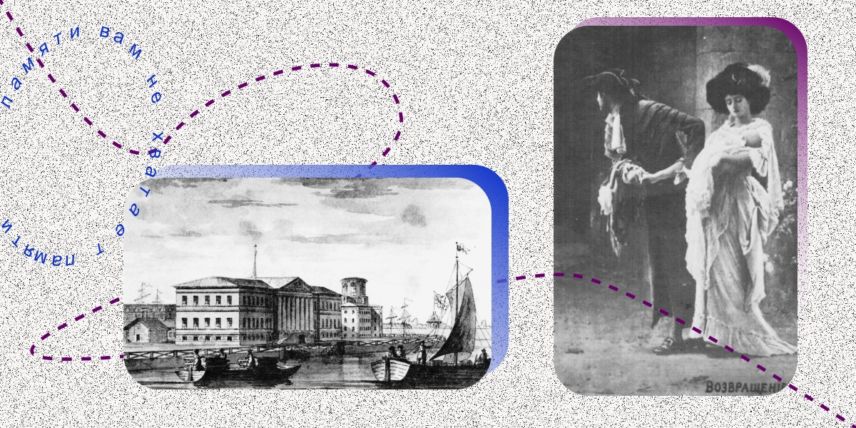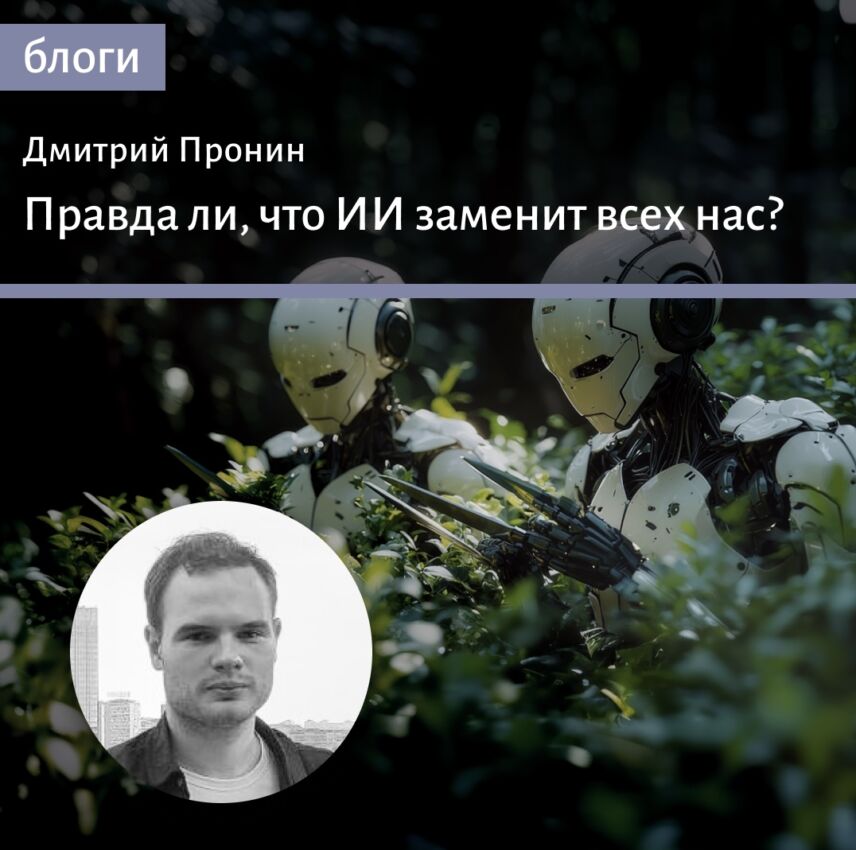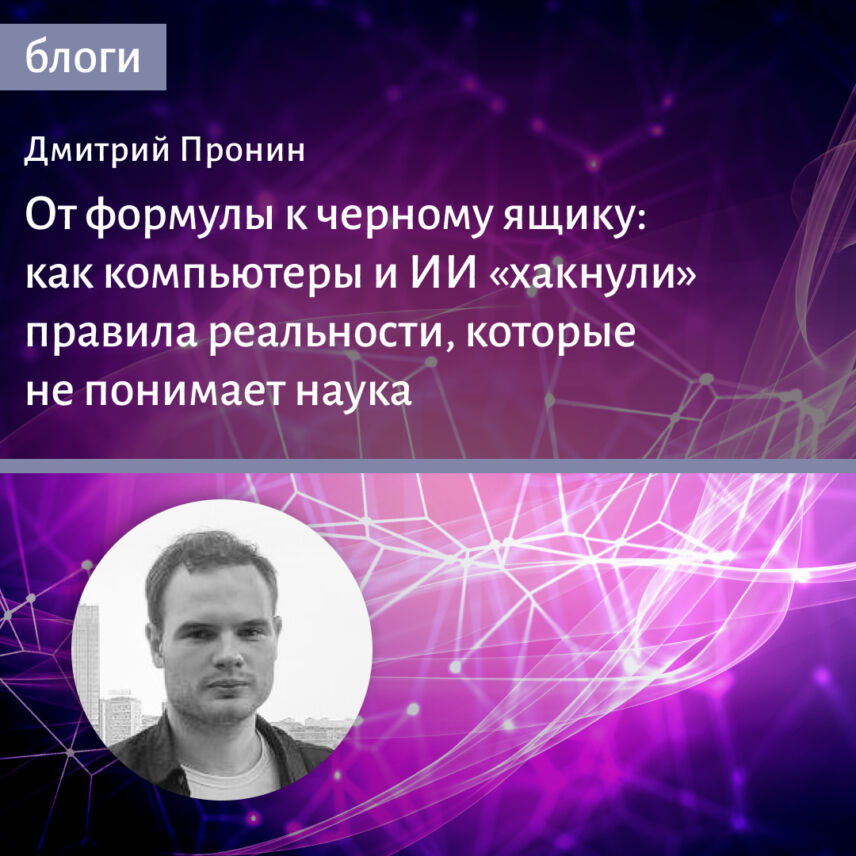В рамках DH не/дели науки о духе и практики о цифре мы провели дискуссию, которую озаглавили как «Вам не хватает памяти, чтобы оцифровать этот объект». О том, как медиа, образовательные и культурные проекты работают над оцифровкой артефактов и превращением их в видимые разным публикам, мы поговорили с Дмитрием Безугловым (куратор в Центре Вознесенского), Татьяной Мироновой (куратор, исследовательница вопросов работы памяти и истории в современном искусстве, НИУ ВШЭ) и Тимуром Хусяиновым (менеджер отдела добычи открыток и партнерского направления в проекте «Пишу тебе», заместитель декана факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде).
Собрали ключевые вопросы, которыми мы задавались во время встречи, и ответы-рассуждения, которые, надеемся, смогут стать опорой при работе с темой памяти и оцифровки. Модераторы встречи: Полина Колозариди (интернет-исследовательница, преподаватель и куратор магистратуры по DH в ИТМО) и Аня Щетвина (интернет-исследовательница, занимается темой памяти и веб-архивов).
Вместо введения: байка про Василеостровские бани
ПК: Если вы удивляетесь, почему я стою в парадной с непонятными кафельными стенами и лохматой головой, так это потому что я была в бане.
Василеостровские бани основаны в 1851 году. Когда я собиралась пойти в баню в Петербурге, я посмотрела на их веб-сайты. И Василеостровские бани меня совершенно переполошили тем, как устроен был сайт и тексты там. Они объясняют, что опыт бань с невской студёной водой и лёгким паром — это то, что противостоит стремительному прогрессу, засилью новых технологий. Этот опыт будто бы радикально отличается от того, как живет наш мир. Они [бани] для нас остаются своего рода историческими вехами, настоящими световыми маяками, которые вот уже не одно столетие продолжают освещать наш путь и не исчезают под напором смарт-технологий.
Опыт бани не связан с использованием каких-то артефактов, он связан только с интерфейсом бани и вашим непосредственным телесным переживанием. Человек получает опыт, дальше остаётся память, и всё. Больше ничего нет. Я никак не могу предъявить вам артефакт посещения бани. Можно, конечно, веник притащить, но, в целом, я тут согласна с теми, кто писал текст про Василеостровские бани. Это такой радикальный пример ситуации, где память и объекты очень сильно разделены.
Мне хочется обозначить место вообще всей нашей дискуссии в контексте «практик о цифре». Наша встреча сегодня о цифровых практиках — практиках сохранения, переноса объектов из одной среды в другую. Но кажется, что, когда мы оцифровываем объект, мы одновременно оцифровываем и опыт взаимодействия с ним, и зачастую это вступает в противоречие.
Если бы мы пытались оцифровать баню, мы бы оцифровывали чистый опыт. Но на деле, за исключением, наверное, бань, — нам всё время приходится думать о том, где граница между опытом и вещью-объектом. Поэтому в сегодняшнем разговоре хочется осмыслить, что происходит с цифрой и памятью. Насколько мы можем помнить всё то многообразие, которое мы пытаемся сохранить в цифре?
Что значит сохранять? Как видится разница между «сохранять» и «помнить»?
АЩ: Если мы собираем артефакты в архив или художник собирает базу данных или коллекцию, то это не всегда реинсценировка памяти, потому что память — это процесс, некоторая активная практика. Чтобы вспомнить, нам нужно действовать, нам нужно предпринять усилия. Например, нам нужно подержать школьный альбом в руках, полистать страницы, и воспоминания придут к нам, а когда альбом стоит на полке, то мы храним, но не помним его. Как вы в своей деятельности видите разницу между тем, чтобы сохранять что-то, и тем, чтобы помнить, учитывая, что это далеко не всегда пересекающиеся вещи.
ДБ: Наш проект, выставка-конструктор «Центр исследований оттепели», проходит уже больше полугода. В процессе работы мы всё время наталкиваемся на проблемы, связанные с инэктментом (воплощением чего-либо, решением), накоплением материала, репрезентацией, выстраиванием каких-то непротиворечивых сюжетов внутри экспозиции.

В создании проекта мы шли от противного: нам не хотелось претензии на большую энциклопедию оттепели или всеохватное толкование эпохи. Мы намеренно пошли во фрагментарность и множественность как отдельных единиц знания, сопряжённых с понятием Оттепели, так и на множественность оттепелей с маленькой буквы.
Мы отталкиваемся от совместного коллегиального понимания того, что размыто-определенный и как будто бы пугающе-очевидный сюжет Оттепели не может быть единым. Методы культурного производства различаются, Советский Союз многообразен и многомерен, и за одну единицу времени происходит слишком много разных вещей, чтобы натягивать на всю экспозицию энциклопедический нарратив, который тебя убаюкивающе ведёт по залам.
Каждый зал мы мыслим как отдельный кабинет. Внутри кабинета у нас есть силы представить либо одну фигуру, либо один феномен, которые вместе будут давать зрителю симуляцию одновременности протекания очень разных вещей.
Сейчас, например, у нас один зал отдан петербургскому пром-графику и дизайнеру Борису Генриховичу Крейцеру, в другом зале — рассказываем про иллюстратора Мая Митурича. Между ними нет никаких прямых связей кроме того, что мы выделяем приблизительно один момент времени, в котором они существуют. И как будто такой подход экспозиционно развязывает руки, потому что позволяет работать с очень разными артефактами.
Но вместе с развязыванием рук приходит постоянная кураторская сложность: как и каким образом организовать объекты на плоскостях, чтобы дать исчерпывающий сюжет? Мне пришло в голову понятие «гиперссылка». Мы пытаемся дать человеку возможность и просто посмотреть на артефакты на стенах и плоскостях, и перескочить по одной из ссылок, чтобы пойти смотреть дальше.
В такой попытке работы с материалом главный организующий принцип сохранения, или даже репрезентации, у меня был вынут из статьи Брюно Латура. «Изображая вещи вместе». По-английски она звучит как «Drawing things together», что позволяет сохранять два значения: «рисуя вещи вместе» и, соответственно, «стягивая вещи вместе». В ней он повторяет потрясающую очевидность, которая звучит приблизительно так: какие бы сложные операции вы ни производили, чтобы получить или изолировать какие-то единицы знания и смысла, вам всё равно придется в какой-то момент достать бумажку или листочек А4 или какого-то рода плоскость, на которой вам нужно разместить максимально экономным способом полученные данные. В этой статье он прослеживает, как лабораторных крыс переводили в цифры на бумаге. Таким же образом функционирует картография.
Для меня, если честно, экспозиционная работа устроена так же. Просто плоскость в данном случае является не листом, а стеной, на которой что-то размещается. Выставка является промежуточным способом схватывания и репрезентации либо уже распространённых, либо сохранённых, но не до конца или недостаточно описанных единиц, которые ты на какое-то время позволяешь кому-то увидеть, задаться по отношению к ним вопросами.
Это в меньшей степени сохранение, в большей степени — это инэктмент, но не инэктмент каждой отдельной единицы знания. Скорее так: как куратор ты строишь предложение или два-три предложения из объектов-артефактов, и надеешься, что зрители смогут эти предложения прочитать.
АЩ: Мне кажется удачным это направление разговора — не про то, как мы пытаемся реинсценировать прошлый опыт, а про то, как продолжать относиться к артефактам памяти как к чему-то, что постоянно должно быть активным, переосмысляться, продолжать жить. Получается более горизонтальная система: не пытаться чётким образом сформировать восприятие зрителей, а дать им возможность погружаться в экспозицию и как-то с ней взаимодействовать.
Второй важный пункт, который мы пока не подсветили, о том, что когда мы говорим про инэктмент в памяти, то существует разница между людьми, которые пережили некоторый опыт прошлого, и людьми, которые никогда ничего такого не переживали. Они уже опосредованно через артефакты возвращаются к какому-то воображаемому прошлому, которое далеко от них. В дальнейшем обсуждении мы явно заденем этот вопрос.
ТХ: Проект «Пишу тебе» существует полтора года, хотя начался немного раньше — два года назад. Тогда мы придумали создать корпус почтовых открыток, которые кто-то когда-то кому-то куда-то отправил. Мы собираем открытки, оцифровываем их, расшифровываем, тегируем и публикуем на сайте, а иногда и рассказываем про них интересные истории..
Вопрос, связанный с оцифровкой памяти, очень важен в нашем случае, потому что каждая конкретная открытка — это память конкретного человека. В корпусе «Пишу тебе» уже размещено почти 17 тысяч почтовых открыток. Мы готовим большое обновление: их будет больше 20 тысяч расшифрованных и больше 25 тысяч вообще.

Каждая открытка представляет собой изображение (оцифрованное), полный текст с обеих сторон (расшифрованный) и различные метаданные: откуда и куда, от кого и кому.
Для нас тексты в открытках всегда уникальные. Хотя и может показаться, что они все похожи, потому что попадаются иногда сплошные «Поздравляю с Новым годом», «Желаю счастья, здоровья», но написано-то это разными людьми в разном контексте, выбраны разные открыточки.
В некоторых случаях данные, например, для поля «от кого», не получается узнать. Там пишут инициалы, и это для нас маленькая тайна.
По штампам мы узнаем, когда открытка была отправлена и когда она пришла получателю. Тут возникают занятные истории, связанные с памятью и институциями: например, сейчас люди задаются вопросом, что же случилось с почтой, узнав, что открытка из Нижнего Новгорода шла до Москвы всего два дня.
Проект акцентирует свое внимание прежде всего на тексте открытки. Но бывают и такие ситуации, когда ни в тексте, ни на картинке ты не можешь узнать «закадровой» истории. Её могут рассказать только те люди, которые делятся с нами своими открыточными архивами.
Например, есть вот такая история. Женщина принесла на оцифровку открытки одной семьи, которая с ней не связана. Её мама, которой уже далеко за 80, пошла со своими родителями в гости, там ей показали открытки, и она взяла несколько из них поиграть, чтобы потом, поиграв, вернуть. Она ждала, когда они пойдут обратно, чтобы вернуть; проходит неделя — не идут, проходит две. Она спрашивает, почему они не идут отдавать открытки. На что ей родители говорят: «Мы туда больше никогда не пойдем. Это семья врагов народа, их всех забрали».
Вот маленькая история. Мы её знаем, мы её зафиксировали в метаинформацию об этих открытках, такой дополнительный пунктик. Ведь по факту — эту историю невозможно оцифровать или каталогизировать.
АЩ: Мне кажется, это возвращает нас к теме, поднятой Димой, про экспозицию и энциклопедию и к вопросу про разницу между хранением и памятью. Здесь мы очень четко, болезненно, живо видим разницу между артефактом, который мы можем держать в руках, открыткой, и количеством разных историй, археологических пластов, которые мы можем раскопать, когда мы пытаемся понять, с какими воспоминаниями этот артефакт связан.
Объект, документ, репрезентация, сохранение, память. А где тут дистанция?
ТМ: Так как я работаю с искусством, которое обращается к историческим документам, то мне здесь важен вопрос дистанции. Мы же говорим о памяти, которая постоянно переосмысляется, которую сложно вписать в какие-то границы. Кажется, что память запускается именно в тот момент, когда появляется дистанция между художником и документами, с которыми он работает.
Как только художник начинает структурировать документы, показывать их определенным образом, монтировать, вмешиваться в них, тогда процесс сохранения и коллекционирования превращается в работу с памятью.
Когда выставка или художественное произведение начинает создаваться, появляется определенное пространство, и оно позволяет нам говорить о том, что происходят процессы работы с памятью. Когда мы начинаем видеть документы и истории как бы со стороны, с небольшой дистанции, а не погружаясь в них полностью.
АЩ: Отмечу важную мысль, которая прошла вскользь: память формируется, а не существует просто так. Я вспоминаю актуальные дискуссии между когнитивистами и философами памяти, которые говорят, что каждый раз, когда мы вспоминаем одно и то же событие, мы физически действуем не одним и тем же образом. Это каждый раз иное действие. Мы можем наблюдать это не только с помощью физиологических инструментов трекинга, но и на уровне культуры. Мы видим, что каждый раз воспоминания о чём-то — это соотнесение с некоторыми пространствами, с форматами, с дискурсами, и это не может быть повторено несколько раз одним и тем же образом.
Проекты о памяти: красиво-удобные-очень-понятные или конструкторски-сложные?
ПК: Слушаю вас и думаю: мы так говорим, как будто все хорошо; как будто мы помещаем вещи в контекст, — они находят свою аудиторию, берём артефакты, их трансформируем, — всё идёт. Нет, ребят, нет! Это процесс, который вовсе не идёт гладко, это постоянное переключение отношений.
Я бы хотела вернуться к тому, как устраивается в разных проектах положение посетителя, пользователя, наблюдателей и экспозиции, энциклопедии, объектов. Какой тип дистанции возникает? Какой тип отношений строится между теми, кто что-то делает, и теми, кто оказывается в них включён? Насколько вообще нам нужно делать красиво и удобно для того, чтобы делать какие-то проекты о памяти?
АЩ: Мне кажется, эта проблема важна, в частности, когда мы говорим про цифровое сохранение, потому что интернет сильно его оформил. Дискурсы, связанные с цифровым сохранением, говорят нам, что если мы сохраняем что-то онлайн, то мы как будто сразу глобальны, как будто любой человек может быть нашей аудиторией (или даже должен быть). Это противовес тому, как мы обычно говорим про музеи, особенно какие-нибудь небольшие музеи, которые существуют для конкретных комьюнити. Здесь интереснее поговорить про цифровой опыт, с которым вы работаете, но, если это возможно, про аналоговый опыт тоже сможем поговорить. Как вы работаете с аудиторией, не постфактум, а на уровне концепции? Как вы пытаетесь очертить, для кого вы это делаете, кто может и должен взаимодействовать с проектами?
ТХ: Изначально мы понимали, что проект может быть интересен для самых разных групп людей: это могут быть и исследователи, которые, например, пытаются изучать дискурс конкретной эпохи через открытки. Могут быть и те, кто просто хочет позалипать, почитать, посмотреть.
Профессионально-исследовательская часть аудитории в нашем случае — это как исследователи-лингвисты, историки, культурологи, социологи; так и те, кто исследует именно открытки как артефакт.
Есть аудитория, с которой мы работаем во время мастерских. Там совсем разные люди: самым младшим — 10 лет, самым старшим — за 80. Каждый находит что-то свое: для кого-то это действительно моменты, связанные с переживанием опыта, который у них когда-то был, когда они писали открытки; для других — новый опыт, например для подростков, которые порой не верят, что открыткам, которые мы расшифровываем и оцифровываем, по сто лет. Для них это столкновение с артефактом истории как таковым.
С каждой из этих аудитории мы работаем по-разному. Для аудитории мастерских и просто для тех, кто хочет посмотреть и почитать открытки, у нас есть простой, визуально понятный и удобный инструмент работы с корпусом — сам сайт проекта. Также недавно у нас появился отдел, который занимается непосредственно взаимодействием с исследователями. Для них мы делаем новый более удобный для исследовательских задач инструмент. Он совершенно некрасивый, но очень удобный, немного nerd.
Есть у нас и сообщество — люди, которые внесли свой вклад в наше открыточное дело. Мы с ними тоже взаимодействуем: рассказываем, что у нас интересного и нового происходит. Они присылают новые открытки, затаскивают в наше сообщество всё больше и больше новых людей — такой почти культ открытки.
АЩ: Мне понравилась идея, что разные цели/задачи и разные аудитории могут быть связаны с разными интерфейсами. Возникает вопрос: насколько это специфическая характеристика того, что мы можем хранить что-то в цифровой форме? Как будто интерфейсы чуть легче менять, чем то, что мы храним в аналоговом формате. Хотя, с другой стороны, опыт Дмитрия, который мы сегодня слышали, показывает, что гибкость и разнообразие возможны и в аналоговом форме. Здесь я бы хотела передать слово Дмитрию, но уже с заделом вперёд. Вы сказали, что в основном музей работает все-таки с аналоговыми материалами, здесь хотелось бы услышать, в какие моменты возникает цифра и что она вам дает? Используете ли вы цифровые инструменты для хранения или репрезентации? Как вы чувствуете здесь специфичность медиума и что он добавляет к опыту курации?
ДБ: Мы на самом деле упираемся в то, то нам очень нужна цифра, но прокрастинируем, отодвигая разговор о цифровой архивации или репрезентации проекта, потому что у нас конфликтуют хотелки в отношении того, что у нас есть.
С одной стороны, у нас есть длящаяся выставка: мы её мыслим сезоном с сериями внутри, каждой серии выделяется по три выставки, которые просто обведены фривольной рамочкой. Эта рамочка удобна тем, что она существует в физическом пространстве. Как только рамочка физического пространства, позволяющая синхронно на всё смотреть, убирается, появляется вопрос — должны ли эти же самые сюжеты в такой же, если не прямой компоновке, но в прямой упоминаемости, сохраняться онлайн? Или надо выжимать из этого что-то другое? Из одного вопроса рождаются ещё и ещё дополнительные вопросы, и это приводит к тому, что на планерках мы бежим дальше этих вопросов и их не касаемся, потому что они большие.
При этом есть куда более простой прикладной вопрос недосказанного или недорасширенного. Например, с фигурой того же Крейцера — мы знаем, что есть лакуны, которые мы бы хотели осветить, но мы не можем их отразить внутри выставочного зала. Для этого в прошлых эпизодах мы использовали совершенно аналоговую вещь — брошюру. То, с чем зритель может уйти с выставки. Может ли что-то такое быть в цифре? Может, нам вообще надо делать просто дружелюбно оформленную базу данных, в которой пользователю будет удобно самому задавать вопросы?
Мы разделяем внутри команды понимание, что те же сюжеты, которые присутствуют в цифре, не идентичны тому, как они присутствуют в физическом пространстве и ни в коем случае не синонимичны. Вопрос про переопределение отношений между большими высказываниями и объектами — очень значимый.
АЩ: Мне хочется отдельно выделить идею про то, что пространственную концепцию не так легко перевести в цифровую форму. Это кажется ироничным и интересным, учитывая то, насколько часто про интернет говорят как про пространство метафорически, и есть некоторая иллюзия, что в нём можно реинсцинировать практически что угодно. Мне кажется, пример, о котором говорил Дмитрий, хорошо показывает, что это огромное количество работы и что это совсем разные типы пространства, между которыми не так просто провести мостик.
Слово цифровизация здесь — это не то, что ты волшебной палочкой взмахнул, применил один магический навык и всё цифровизовалось. На самом деле это процесс переделывания всего в совершенно другой медиум.
ПК: Для меня, честно, нет глобальной разницы между цифровым и не-цифровым интерфейсом, как для исследовательницы. Да, есть цифровизация, а ещё есть индустриализация, а есть урбанизация — мы в города переселились. Мне кажется, что как раз интересно то, как устроены разные взгляды на эту границу или разницу цифрового и аналогового. Как это устроено в кураторских художнических практиках? Эта разница значительна? Кажется, что в художественном чуть больше чувствительности к медиуму.
ТМ: То, как мы пытаемся выстроить свой взгляд на историю выставок в онлайн-архиве (речь идет об архиве московских выставок проекта «Место искусства»), несколько отличается от того, как бы мы выстраивали это, делая, например, кураторскую выставку. У нас более ограниченное количество инструментов, которыми мы можем взаимодействовать на физическом уровне со зрителем, поэтому мы как можно четче настраиваем свою оптику, чтобы зрителям сразу было понятно.
Если мы публикуем интервью или устные истории — мы не просто выкладываем материал от и до. Нам важно его отредактировать и показать как цельное высказывание, потому что, будет слушать или не будет тот, кто придет к нам на сайт, это зависит от того, как мы выстроим материал.
Возвращаясь к вопросу, мне кажется, разница есть в том опыте, который получает зритель. Я не очень понимаю, как дать ответ, потому что я предвзята: мне ближе физическое, тактильное, звуковое взаимодействие, которое предполагает, что я на выставке могу обернуться, могу надеть наушники, могу снять, могу что-то бумажное полистать.
Если мы говорим о памяти, то сразу вспоминаются мемориальные выставки, где было большое количество разных способов взаимодействия: пощупать, прочитать, сесть, встать. Насколько цифровые проекты, связанные с памятью, предполагают такое разнообразие — я не знаю. Единственное, что я вспомнила — проект, который был посвящён Дню памяти жертв холокоста. Там можно было зажечь свечу и перенести её на общую стену памяти. Довольно распространенный жест, но он был сделан на сайте как-то очень физически; это переживание, когда ты мышкой ведёшь, зажигаешь и помещаешь, было устроено таким образом, что у меня выстроилась связь между моим физическим опытом переживания и опытом переживания в онлайн-пространстве.
АЩ: Пока вы говорили, поймала себя на неожиданном для меня раздражении по отношению к тому, как мы сейчас говорим о том, что аналоговые и цифровые артефакты, с которыми мы работаем, — это разные вещи, нам очень важно их специфику все время объяснять.
ПК: В нашем общем конспекте был вопрос: зачем сохранять баню? Важный вопрос, конечно. Я думаю, что баню сохранять не нужно; я вообще не уверена в необходимости сохранять объекты сами по себе, если если они остаются чем-то, что является только объектом сохранения.
Мне кажется колоссальной ценность руины, ценность разрушающегося, деградирующего, истончающегося, разрушающегося. Оно может не поддерживаться необходимостью того, чтобы что-то было, а наоборот — быть разрушенным во имя чего-то другого.
Для меня в этом принципиальная разница между вообще модерновой картиной и идеей мультивселенных, которая предполагает, что у нас есть бесконечный опенспейс (цифровой или аналоговый), где можем делать всё, что хотим, но, скорее всего, даже не узнаем друг про друга.
Мне кажется, что космос в прежней форме невозможен; тотального мультиверса, лично мне, не хочется. Думать про что-то третье, про метавселенную, где что-то сохраняется — это не только память, это ещё и про сами объекты. Когда мы хотим понять объекты, иногда для этого их нужно разрушать.
Социальные отношения, которые мы хотим поддерживать, тоже для того, чтобы они сохранялись сами, а не были артефактом с пользователем, художником и дистанцией. И их тоже иногда нужно разрушать. Это не про creative destruction, а про то, что есть какие-то способы руинирования, уточнения; и мне кажется, что разговор об этом сейчас обретает основания.